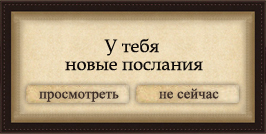Кощей | Аид.
именования не подлежат склонению.
гомотерия. | самка. | трёх лет от роду; взрослая. | одиночка. | не имение таковой. |
Внешность.
В наружности Кощей было что-то трагическое и зловещее; какая-то сумрачная недобрая сила, задумчивая презрительность и страсть веяли от её лика, от её глазниц – больших, тёмных, боле походящих на два дна сонливой лощины, редко – и всё же – полные серных крупных капель океанов душевной нестабильности и мнимого превосходства. Их взор, обыденно обременённый тяжестью, не согласовался с изгибами почти детской и нежной мимики. Вся фигура юницы, приземистая, криволапая, с большим черепом на сутулых плечах, разражалась грустным ощущением; она была не столько приятна взору. Её внешние данные словно подстраивались под описания байроновских сказаний, с примесями ещё больших чудачеств и капризов природы. Большие уши, краткий хвост, длинный влас тёмно-серой шерсти и телесность, поныне не обезображенная, но уготовленная ко стезанию в дальнейшем поприще за существование. Она есть какое-то не убранство, не комильфо сей жизненности, какая-то каменность моветона, присущая первобытным инстинктам. Они словно отражаются на ней, кривясь, ломаясь чертами, зарождая уродство новое, что, в своём естестве, есть обратное, прекрасное, недостижимое господину настоящего.
Характер.
Уродилась со всеми признаками тяжкой физической наследственности – рахитизма, повышенной нервности. Из всех данных крикливо обозначено, что Кощей – физически больное детище. При раннем детстве уж явились черты шизоидной натуры: необыкновенная доброта, ощущение справедливости, наряду с жестокостью, страстью к разрушению и раздражительностью, упрямство, капризность, склонность к повышенному стремлению в грёзы, аутистическая замкнутость, болезненная чуткость и себялюбие при собственном превосходстве. Смерть матери взывала в ней чрезвычайно сильную реакцию, настолько, что младое существо вверглось в состояние тяжёлой скорби: она таился в углах, кралась в иные места, а-ли проводила бессонные ночи, вздёрнув череп к небосводу, но звёзд не примечая.
Болезненный выродок. При детстве исстрадалась какой-то длительной да тяжкой болезнью, что, видимо, отложила в рельефах её разума талый отпечаток на всё дальнейшее бытие. Она имела важные следствия и странные влияния и на ум и на характер юницы: она думывать выучилась. И, лишённая развлекаться забавами детей, кошка вступилась в поиски их в самой себе. Утопии стались ей новыми игрушками и вовлекли младое существо в привычку побеждать страдание телесности, уводя её в порождения грёз. Она была, есть, будет необщительной, замкнутой, относящийся к иным с презрением. Её не любили, отдалялись от неё и, не имея общих точек соприкосновения, не обращали на неё боле`го внимания.
Психопатия и болезненная складность души Кощей бросаются в очеса.
Одарённая природою способностями, граничащими с блестящими, и умом нетипичным, юница возлюбила проявлять свой разум и находчивость в насмешках над средой её окружающей и колкими, часто довольно-таки меткими, остротами крысилась над иной живой тварью. С подобной наклонностью, с подобной разнузданностью она выступила в существование, и, понятно, напоролась на множество неприятелей.
Кощей была пагубна на ещё одну черту, далече не привлекательной – она бывал завистлива.
Как персонаж деятельности кошка представлялась мелочной, несносной, даже ничтожной («Ничтожество есть благо в здешнем свете») Сие недостатки, признаки безрассудного упорства нередко становились младой причиной фиаско.
Хулиган чистейшего типа: выходки совершенно невозможные и нетерпимые, нечистоплотная бесцеремонность с «тварью дрожащей», но всё то как-то странно уживалось в ней с мыслию о подвигах высшего благородства и преданностью дружбе.
Характер героя крайне неровный и настроение часто и резко сменивалось: с неудержимой веселости кошка переходила к мрачного типа задумчивости и угрюмо могла посиживать в углу, не проявляя интереса ни к чему иному, кроме как плавному течению думы по древу.
Душа сама собою стеснена,
Жизнь ненавистна, но и смерть страшна,
Находишь корень мук в себе самом,
И небо обвинить нельзя ни в чём.
Пусть паду как ратник в бранном поле.
Не оплакан светом буду я,
Никому не будет в тягость боле
Буря чувств моих и жизнь моя.
Биография.
«Как поныне её вижу, – своё присуждает некая об ней, – роста мелкого, с большими щелями глаз, откуда веет злом и умом; разглагольствовала извечна своим тихим, шипящим гласом; жалась, притыкалась, вновь пускалась в дилеммы, ей понятные лишь; вела себя не comme il faut, и странно, что имела она положительную неспособность к понятию сему, покуда мать её, брат её, сестра её до такой степени прививались к comme il faut. В них взросло оно до той поры, ибо сами они воспитывались, считались весьма приятного склада семьёю; жалко матерь её. Дочь совсем выбивалась с приличности, как только та ступила раненой на холодный зияющий предел. И отца рановато утеряли они. Быть может, то и столкнуло Кощей в известную пору младости, где полно ошибок и влечения, где всякий обыкновенно становится себе предоставленным, ибо присматриваться за естеством растущим некому бывало; я старалась уберегать детищ, оставленных мне по душе, но, видать, оторопела, согнулась, скрылась для неё, потеряла значимость, омертвела. И себя, дурная кровь, значит-с вывела; бегала куда-то часто, не являлась собою с суток нескольких, стезалась над мною, как могло стезаться лишь существо mauvais genre (дурного тона). Обезумить вздумала меня, а я прожить остаток жизненности calmement (спокойно) грезила. Я и оставила попытки её спасать со всякой обочины бытия, оставила прислугу ей, оставила обещание отца её беречь детищ на небо, и отпустила. С тех пор являлась она ко мне небрежно, когда взбредёт во рельефы разума, а я вижу, что с нею хорошо всё – и душа освобождается от долгой учености волноваться за оставленное на меня.»
«То она, душенька, – рассказывал словно себе старинный товарищ, - набралась страху. Упивалась им несказанно долго, внимала собственному порождению и проблемности одиночества, в коем думывать выучилась чисто случайно. Болела долго она, бороздила пределы меж тем и этим, опасливо вниз поглядывая левою глазницей, славливаясь на думе, что за матерью и отче шествовать ей ещё рановато. И скелет, я видел, как её тряскою покрывался; исхудала она за тем несколько дней странной болезни. Я порывался ей ягоды, ветви, травы таскать, она отнекивалась, ничто не клала на язык. Хрипло бурчала под нос себе невесть что, думывал я, сошла с ума дева, да погорячился; упомнилось мне, что свершено взбунтовалась на влияние она моё – ни улыбнётся, ни смолвит доброго глагола на услуги оказанные. Приходила ко мне редко она, и того ради, дабы забрать тушки мелкого зверья, что выучился я ловить раз в конце месяца; мне казалось странным, что не уподобляется Кощей тому, чему уподобляются все господы нынешнего века: вегетарианству. Не по моде то ей было. Раз, однажды, рассказывала, что от пищи сие худо становится, и одолелась жаждою новейшего. Охотиться никто её не выучил, не умеет она, и, быть может, никогда не обучится тому, ибо придерживается некоему мандражу, как казалось мне. – Запнулся, замер; видать показалось, и он вновь пустился глагольствоваться: – Мало о ней что знавал, точно так же, как редко приходила ко мне она. Давно её не видел, и туши уже сгнивать начинают; надежду лелею, будто она сама где не гниет на пиршество стервятнику, а-ли процветающему каннибализму какому. Хотя, знаете, всё же вскользь молвила та странная Юность – отец, вроде, бывал да умирал; мать за ним… а-ли всё наоборот; честное слово, сего не знавал, но то, что оставалась она под опекою некой старинной кошки, которая мешку с костью уподобилась, то я точно знавал. Вроде, сестрица младшая да братье имеется; половина отпрысков сгибали, по своему обыкновению, ещё при первых зачатках жизненности…»
«Кощей словно застлана неким ощущением; ощущением того испуга пред смертью, её давней знакомой, что жизни удумала весенниться над черепом юницы давече уж; с детства переболела, стерпела многое. Мать над нею нависала, всяко старалась не позволять чувствовать той одиночество в своей привязанности к углу «цитадели». Она была истинно несчастлива, как была несчастлива мать, завидев детище своё на парапете меж мертвым и живым. И хотя всегда думалось родительнице, будто потерю ещё одного отпрыска переживёт на мелочном веку своём, оказалось всё обратно противоположно. Помню, как приходилось мне успокаивать Кощей, следуя за нею, наступая на пяты, и эта нежность моя и кротость, казалось, лишь сильнее подчёркивало её нарастающую хладность по отношению развалившейся семье. Скорым и отче наш гибнул; думывать я заладил, будто и то ввергнет её в скупость, полностью отхватившую куски той прежней и прошлой Кощей, но ошибался столь глубоко, что хватало мне нескольких месяцев, лишь не года, дабы осознать – тому, кто на дно канул, падать более некуда было.»
«Несколько дней она из пещеры не выходила, никого не видела, находила наслаждение в слезах и много плакала. Неизведанно, что думалось в те солнцестояния и ночи ей, но, когда она вышли, измотанная, опухшими глазницами своими моргая на солнце, мне казалось, что она плюнет мне в нос, и то будет непременно заслуженно, непременно истинно и правильно. Мне казалось, что она уже радуется этому несчастью, что столько срослась с ним, что заприметить его возможно на угловатом плече её; оно сидит, давит её, губит и душит, но ей чрезмерно равно всё.»
«Она, казалось, думала, думала, и, наконец, поздно вечером, когда всё сгорело в небосводе, вскочила, ринулась известно ей одной лишь куда, взобралась на большой валун, на который прежде не имела привычки взбираться. На лике её вскрылись минуты отчаяния, раскаяния, морального прорыва, будто сумела отыскать она в плеядах и луне, что на фоне тёмнеющего купола казалась неправильной формы дыркою, она оправилась, словно сумела отыскать выступающим камень на бесконечной стене дна, по которому могла бы взбираться наружу, и вновь решилась расписать себе правила весенной жизни… Долго ли продолжался этот прорыв наверх, на много ли камней ступила она, прежде чем клыками обуревать своим хулиганством земель, покажет следующий период, более счастливый период, юности.»
Пробный пост.
Возникновение клички.
В эту временность бывала ты юна, невинна, свободна и поэтому почти счастлива.
Ты поднималась первая и уходила в сырость тени, покуда, диска солнечного не умея терпеть, стезалась болью очес. Чаще там пахло постоянной густой пылью с примесью едва ощутимого аромата сдавленных иной тушою ягод; тех самых плодов, что уважали матерь, братье, сестра, отче, и те самые, которые ты сумела презирать за бесполезность в бытие собственном. Продвигаясь вглубь темени, ящериц спугиваешь, которые, тебе уподобившись, сыскивали своего спасения от солнца, ты с раздражением выискиваешь убежища от всего мировоздания. Шествуешь и думываешь: «Нет. Никому не найти меня тут..», шевелишь хвостом, жмуришь зерницы, складываешь уши на макушке, ступаешь по прохладной земели и понимаешь, что забралась достаточно далеко, дабы затеряться от всевозможного.
Укладываешься, нет, буквально распадаешься на спасительной хладности, и тяжёло вздымаешь рёбра, наполняя свои лёгкие пылью старого мира. Ты лежишь, раскидавши лапы по разные стороны от себя, и освобождаешься от всяких понятий, какие в последнее временование осыпались горстью кальки на всё естество твоё. Лежишь, невзирая на миллионы кошмаров сгустка темноты, взираешь в свет и тени, в их игрище, ежели не побоище, на лиственности, размышляешь мелодией мнимого счастия, безрассудного, сладострастного. И всё казалось, что одна ты; что природа, таинственно-величавая, мнётся пред тобою, кроется, тешит тебя не тяготеющим одиночеством. Ты станешься здесь до того, пока вновь не дастся в бега диск солнечный, облака свои яркие затушивши, подобно тому, как тушат керосиновую лампаду пред долгожданным переходом от света ко мраку.
На устах брезжит усмешка, ты впервые растекаешься мыслию по древу об создании мира сего; об том, кто выдумывает тебя, и есть в существовании ли доли подлинного умысла, того самого, который не мы себе придумываем за надобностью оправдаться в поступке своём. Разглагольствоваешь об собственной ненадобности кому-либо, об всём, что вскользь контактировало с тобою последнее временование; сводишь итоги и понимаешь, что бренность тела-полотна твоего не есть либо кому интересна. С тем успокаиваешься.
Ты, кажется, замертвела в сих думах, потерялась, как затерялась Алиса в Стране Чудес… и не есть известно, сколько Алис бывало до той самой Алисы, которая Кролеву Красную извергла с трона, и та ли это Красная Королева, которую все на эшафот думывали отправлять. И тот ли Кролик, и тот ли Шляпник, и та ли Белая Королева. Тебе казалось, что некогда и ты сосуществовала ранее; лишь только, ты была вовсе не «ты»; нечто свершено иное; возможно, ты прошлая никогда не переманивалась от солнца к темноте; возможно, ты вовсе не бывала таковой, каковой поныне являешься. И бывала ли ты именно здесь, а не где-то там, за несколько километров, а-ли за несколько галактик? Вон, вон, прочь отсюда, ещё далее и ещё безвозвратнее.
… – Взирайте, потехи ради, кто сумел облобызать место сие раннее вашего, господы. – Останавливается кто-то ближе твоего, кряхтит, хрипит гласом грудным, на удивление тебе самой приятным гласом. – Юность ли, душенька ли, посмейте-с отсюда.
Некий, второй, а-ли третий, а-ли четвёртый, противно подавал голосу за кулисами мелкой театральной сцены; сцены в тени, сцена голосов да запах.
Но и не подумывается тебе уступаться. Ты сжимаешься, делаешь виду, будто нет тебе делу до их поприща, до их планности. И во сути своей, бывало ли делу тебе до иных? Будь воля, ты бы давече снизошла от подобного, как общение с кем-либо; языковая мышца омертвела бы, сталась бы простым прилагающимся, как прилагается нынче рельефы разума, коими всё-таки умудряются не злоупотреблять те, кому «пожить легче возжелалось».
– Дева краса… – Слащавость сего разъела изнутри дыру; ты морщишь носом, надменно фыркаешь. «И чёрта плешивого пристали? Будто обязывалась им место сберечь, да сгинуть, как только явят свои персоны».
– Аид.
Представляешься первым попавшимся именованием, какое позднее тебе несказанно облагородит, которое бесчестно придаст тебе блаженства в новом, ином, знакомстве. Ты ухмыляешься, покуда знавала: со врагом бывать ближе всякоего стоит, однако, ты одновременно опровергаешь сие теорию. Ты отведёшь в себе очредную ячейку нового. Станешься истинной и подлинной в одном олицетворении.
– Мне Аид имя. – Вторишь, стараясь убедить не столько их, сколько себя. Изживаешься в роли выдуманной. Ты сумеешь оступиться и выдумать себя, характер, изродиться вновь. Ты перевоплотишься, возможно, станешься кроткой, не столько вольной; возможно, и ты уступаешь им место. Пятишься задом, ныряешь в кусты, и выныриваешь с обратной стороны.
«Значит, Аид?»
Игровой опыт. | Посещаемость. | Доступ к профилю. | Откуда узнали о нас? |
Отредактировано Кощей (22.02.2015 18:49:29)